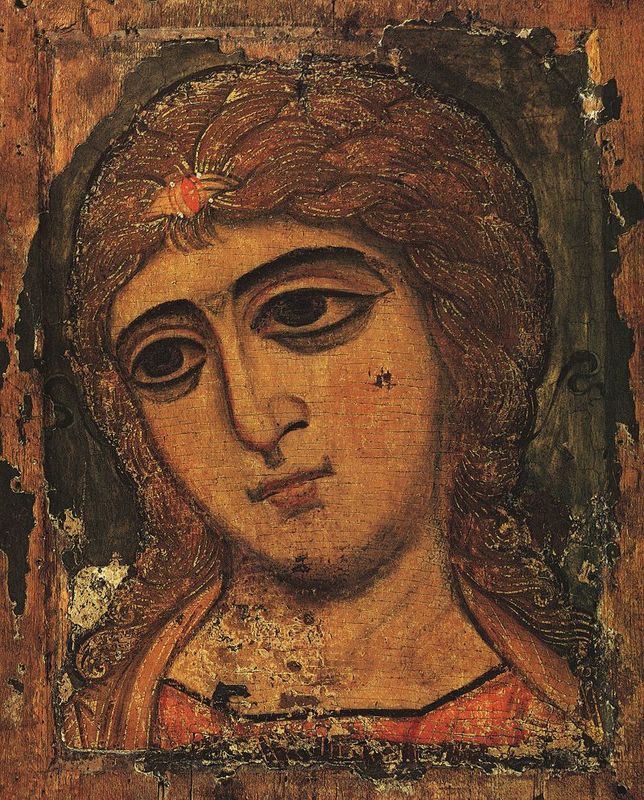Ностальгический клуб любителей кино . Пороки в древней руси это
"Пороки". История камнеметов на Руси.
"Пороки". История камнеметов на Руси.
Порок – стенобитный камнемет с пращой. Теоретически под данное определение могут подходить два устройства – требюше и онагр. Общепринятым, идущим от впервые исследовавшего данный вопрос А.Н. Кирпичникова, является мнение, что пороком называли именно требюше. Онагр не только сложен и менее эффективен, но и ненадежен снежной зимой, когда его трудно уберечь от атмосферной влаги. Кроме того, пороками в летописях называли не только древнерусские, но также немецкие и шведские машины, а они однозначно представляли собой требюше.
Вышеуказанная точка зрения идет вразрез с позднесредневековыми (XVI века) русскими иллюстрациями, изображающими монгольские пороки XIII века как огромные самострелы, метающие камни или горшки с зажигательной смесью. Однако… достоверность этих иллюстраций, нарисованных через 300 лет после описываемых событий, очень сомнительна. К этому времени требюше более чем 100 лет как вышли из употребления. Вероятно, малообразованные иллюстраторы XVI века из всех механических метательных машин видели только охотничьи самострелы и не могли представить себе машины, действующие по совершенно другому принципу. Как следствие, «пороки-камнемёты» более ранних летописей принимались за большие станковые арбалеты, стреляющие камнями…Осада Козельска монголо-татарами в 1238 г.
| Миниатюра XVI в. из Голицынского тома Никоновской летописи. |
Следующий вопрос – откуда и когда пороки появились на Руси (сам факт заимствования не вызывает никаких сомнений). Первое надёжное упоминание пороков в русских летописях датируется 1204 г., осадой франко-итальянскими крестоносцами Константинополя. Известия об этой осаде пришли на Русь от находившихся в Константинополе церковников и купцов, и к собственно древнерусской истории не имеют отношения. Данное упоминание свидетельствует только о том, что само понятие порока было на Руси уже известно. Равным образом нет никаких иностранных свидетельств применения пороков на Руси до начала XIII века.
Первое упоминание о применении пороков русскими относится, согласно Ипатьевской летописи, к осаде галицко-волынскими и киевскими войсками Чернигова в 1234 г.: «...люто бо бе бои у Чернигова, оже и таран [в Погодинском списке нач. XVII в. – оже и таран и Чернеговци] на нь поставиша, меташа бо каменем полтора перестрела, а камень якоже можаху 4 мужа силнии подъяти...». Это единственное место в летописях, где слово «таран» можно понять как обозначение камнеметательной машины. Очень вероятно, что переписчик летописи (самая ранняя сохранившаяся рукопись датруется рубежом XIV-XV веков) просто пропустил слова «и порок» после слова «таран» – примечательно, что еще более поздние переписчики пытались исправить это место, явно не понимая, как таран может метать камни. Впрочем, возможно другое объяснение – в момент записи данного сообщения большие стенобитные метательные машины были новшеством на юго-востоке Руси и летописец просто не знал, как их называть, поэтому и применил привычное обозначение стенобитного устройства – таран…
К сожалению, сейчас уже невозможно установить, ошибались ли летописцы и, если нет, что именно они имели в виду. Ясно лишь, что в Южной Руси большие стенобитные пороки начали применяться только в 1230-х гг., первоначально их применение было очень редким, «экспериментальным», и проникли они туда из католических стран – Польши и Венгрии.
Первым надежным упоминанием применения пороков в Северной Руси является новгородский поход 1268 г. на Раковор (Раквере) в совр. Эстонии. К этому времени пороки были уже хорошо знакомы русским, у которых даже имелись свои «порочные мастера». Этот эпизод хорошо соотносится с…сообщениями немецких хроник о боях в Прибалтике в 1206-1223 гг., согласно которым ни полочане, ни новгородцы и псковичи ранее метательных машин не знали и перенимали их у немецко-датских крестоносцев, поначалу не очень умело.
Об отсутствии на Руси пороков до 1230-х гг. косвенно свидетельствуют и особенности древнерусской оборонительной архитектуры к моменту монголо-татарского нашествия. Укрепления были исключительно дерево-земляными…– довольно высокий вал, на нем невысокая стена из деревянных срубов, засыпанных землей, без каких-либо внутренних казематов с бойницами. Воины располагались только на заборолах – площадках вверху стены, прикрытых частоколом или деревянным бруствером. Заборола были уязвимы для разрушения даже не самыми тяжелыми камнями, серьезную угрозу для них представляли и зажигательные снаряды. После этого оставшиеся без прикрытия защитники легко сметались со стены массированным обстрелом из луков и легких скорострельных требюше. Такие укрепления не имели башен, способных обеспечить фланкирующий обстрел. Они обеспечивали хорошую защиту от тарана, но не предполагали применения противником камнеметательной техники. Против монголо-татар, обладавших мощными камнеметами и эффективными зажигательными средствами, даже крупные города вроде Рязани и Владимира держались только 5-6 дней. Кажущимся исключением является 7-недельная осада Козельска, однако штурм его крупными силами занял только 3 дня.
Успеху монголов способствовало равнинное расположение большинства русских городов. Напротив, камнеметы оказались неэффективны против небольших волынских крепостей, расположенных на возвышенности (Колодяжин), некоторые из них они даже не пытались штурмовать (Кременец, Данилов).
Примечательно, что в Польше и, особенно, Моравии успехи монголо-татар по захвату городов были значительно скромнее. После победы в полевом сражении у Легницы они не смогли взять ни сам этот город, ни соседний Рацибуж; хотя они взяли Краков (вероятно, еще не имевший каменной стены), но не смогли захватить каменный собор в центре города. В Моравии им не удалось взять Опаву, Оломоуц и Градищенский монастырь. Очевидно, разрушение их каменных укреплений требовало долгих осадных работ, которых монголо-татары уже не могли себе позволить. Значительно больше городов они взяли в равнинной Венгрии, причем там хронисты отмечают широкое применение зажигательных средств: еще до штурма были сожжены Буда и предместья Альбы (Секешсехервара). Альбу они так и не взяли – её защищали обширные болота, видимо, мешавшие применять камнеметы, а также и защитники активно применяли собственные машины. Отбились и многие города Словакии (Братислава, Комарно, Тренчин, Нитра, Бецков) – последние из них, очевидно, в силу возвышенного местоположения. Не взяли и цитадель венгерской столицы, Эстергома, хотя сам город был захвачен после непрерывной работы 30 камнемётов. Венгры также активно использовали баллисты и камнемёты, отмеченные, в частности, в Пеште. Наконец, не удались монголо-татарам атаки на города Далмации – горные Клиссу и Траву, приморскую Рагузу (Дубровник).
[Ниже] приведен перечень упоминаний о пороках в «Софийской первой летописи старшего извода», Псковской, Новгородской первой, Тверской летописях, Рогожском Летописце (тверского происхождения), поздней общерусской Львовской летописи, Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. Вот эти эпизоды с разбивкой по годам и сторонам, применявшим пороки: 1) 1204 (Константинополь) франко-итальянские крестоносцы – против византийцев 2) 1233 (Перемиль/Галич) венгры – против русских 3) 1234 (Чернигов) русские (галичане и киевляне) против русских (черниговцев) 4) 1238 (Владимир) монголо-татары – против русских 5) 1238 (Торжок) монголо-татары – против русских 6) 1238 (Козельск) монголо-татары – против русских 7) 1239 (Чернигов) русские (?) – против монголо-татар (возможно совмещение с эпизодом 1234 г.) 8) 1240 (Киев) монголо-татары – против русских 9) 1240 (Колодяжин) монголо-татары – против русских 10) 1245 (Люблин) русские – против поляков 11) 1249 (Ярослав) поляки и венгры – против русских 12) 1259 (Луцк) монголо-татары – против русских 13) 1261 (Холм) русские – против монголо-татар 14) 1261 (Сандомир) монголо-татары – против поляков 15) 1268 (Раковор) русские (новгородцы) – против немцев 16) 1272 (Псков) немцы – против русских 17) 1281 (Сохачев) поляки – против русских и поляков 18) 1282 (Сохачев) поляки – против русских 19) 1290 (Краков) поляки – против поляков 20) 1291 (Краков) поляки – против поляков 21) 1297 (Псков) немцы – против русских 22) 1300 (Ландскрона) шведы – против русских (новгородцев) 23) 1322 (Выборг) русские (новгородцы) – против шведов 24) 1323 (Псков) немцы – против русских 25) 1342 (Псков) немцы – против русских 26) 1368 (Псков) немцы – против русских 27) 1382 (Москва) русские – против монголо-татар (возможно применение также и монголо-татарами) 28) 1392 (Псков) русские 29) 1394 (Псков) русские (новгородцы) – против русских (псковичей) 30) 1398 (Орлец) русские (новгородцы) – против русских (москвичей) 31) 1426 (Воронач) литовцы – против русских (псковичей)
Еще более интересен качественный анализ. Эпизоды с новгородцами-псковичами или их немецко-шведскими и литовскими противниками разбросаны между 1268 и 1426 гг., то есть охватывают весь период применения пороков. Судя по всему, они использовались в этом регионе регулярно обеими сторонами. Напротив, все упоминания татаро-монгольских пороков в северных летописях относятся к походам Батыя в 1238-1241 гг. Причем авторов Софийской и более подробных новгородских и тверских летописей никак нельзя упрекнуть в недостатке внимания к «татаро-монгольскому» направлению – они старательно описывают все «татарские рати» и осады XIII, XIV и XV веков, но о пороках у татар молчат, одновременно упоминая их при каждом конфликте с «немцами» и «свеями». Столь регулярное умолчание – уже не случайность, а тенденция, становящаяся значимым фактом.
Подобным образом южнорусская Ипатьевская летопись (точнее, входящий в неё «Галицко-Волынский летописец») упоминает пороки в польско-русском пограничье с 1233 до самого своего преждевременного окончания (1292 г.), тогда как период применения пороков монголо-татарами ограничивается 1238-1261 гг., т.е. практически временем правления Батыя.
Приходится сделать вывод, что тяжелая осадная техника не была органически усвоена золотоордынскими татарами, оставаясь механическим заимствованием у более развитых «городских» цивилизаций. Новые, после Батыя, поколения золотоордынских ханов были не в состоянии оценить и усвоить сложную технику и, очевидно, полагались только на традиционные кочевые методы ведения войны. Вероятно, сказывались и меньшие возможности принудительного изъятия готовых инженеров у Китая и мусульманского мира. Как следствие, осадные умения западных монголо-татар подверглись быстрой деградации уже с 1260-х гг...
Другая любопытная особенность – почти полное отсутствие упоминаний пороков применительно к междоусобным войнам русских князей, хотя такого рода войнам во всех летописях отведено едва ли не основное место. Пороки применяют только новгородцы в самом конце их истории на Руси – в Софийской летописи есть только один такой эпизод, относящийся к осаде московского гарнизона в Орлеце на Сев. Двине в 1398 г. В псковской летописи появляется другой эпизод, связанный с походом новгородцев на Псков в 1394 г. И это всё. В Тверской летописи, очень подробно описывающей борьбу Московского и Тверского княжеств в XIV веке и участие в ней татар, пороки не упоминаются ни разу. Например, целый месяц осаждавшее Тверь в 1375 г. московское войско даже не пыталось разрушить его деревянную стену, хотя «примет» и попытка штурма говорят о решительных намерениях нападавших.
Наконец, последнее упоминание пороков в северорусских летописях относится к походу литовского князя Витовта на псковскую «украину» Воронач в 1426 г. – пороки применяли литовцы (или вассальные им русские князья).
Естественно, доступный материал слишком неполон, чтобы делать однозначные выводы. Однако то, что есть, можно изложить в виде следующих тезисов:
1. Порок представлял собой требюше общеевропейского образца, либо с тяговыми веревками, либо с противовесом, как легкий противопехотный, так и тяжелый стенобитный (могли применяться все разновидности).
2. До начала XIII века крупные метательные машины на Руси не применялись. Об этом свидетельствует не только отсутствие упоминаний в летописях и иноземных хрониках, но и сохранившиеся описания древнерусских осад – они сводились или к примитивному штурму с лестниц после засыпки рва («примета»), или, чаще, к «сидению» или «стоянию» под осажденным городом на протяжении нескольких недель, то есть попытке взять его измором. Особенности древнерусской крепостной архитектуры также подтверждают этот тезис.
3. Устойчивый период существования русских пороков охватывает около 200 лет – примерно с 1230-х гг. по 1420-е гг., то есть они вышли из употребления приблизительно тогда же, когда и в Западной Европе. Требюше («пороки») появились на Руси позднее, чем в Западной Европе и, тем более, на Ближнем Востоке, зато освоена такая техника была быстрее.
4. У северной Руси заимствование порока произошло из Западной Европы через балтийский регион, Полоцкое и Новгород-Псковское княжества, в ходе борьбы с немецкими крестоносцами. Об этом говорят и прямые свидетельства ливонских хроник, и последующая концентрация упоминаний пороков в северо-западном регионе... Во Владимиро-Суздальское княжество пороки перешли достаточно поздно через Новгород и Псков. Псковичи сохраняли репутацию главных специалистов по осадному и крепостному делу в Московском государстве вплоть до XVII века. В южнорусских княжествах пороки были заимствованы, вероятно, только в начале 1230-х гг. или немногим ранее из Польши или Венгрии. Хотя путешественники из этих княжеств в Византию могли составить теоретическое представление о требюше и ранее.
5. Судя по характеру отношений северорусских княжеств с крестоносцами заимствование пороков было скорее самостоятельным воспроизведением наблюдаемых или захваченных образцов, чем мирной передачей опыта приглашенными оплачиваемыми мастерами. В южнорусских княжествах могло иметь место и мирное взаимодействие с Польшей и Венгрией.
6. Как кажется, на Руси долго не было внутренней, органической потребности в сложной осадной технике. Видимо, примитивная крепостная архитектура русских княжеств не создавала острой необходимости в сложном и трудоёмком осадном оборудовании, тем более оно было ненужно против кочевых народов и литовцев. Сказывались также невысокий общий уровень развития, относительная бедность (особенно после монголо-татарского нашествия) и малая плотность населения... Сколько-нибудь существенный спрос на большие пороки и соответствующих мастеров ограничивался северо-западным регионом и Галицко-Волынским княжеством...
7. Положение стало меняться только к концу XIV века, когда растущая централизация и постепенное распространение каменного строительства создали и ресурсы для развития тяжелой осадной техники, и устойчивый спрос на неё. К тому же распространение пороха, «огненного зелья», создавало совершенно новые возможности для поджога пороками вражеских деревянных городов. Однако век механической артиллерии как раз в это время подошел к концу – в Софийской летописи пушки впервые упоминаются под 1382 г., в Тверской – в 1389 г., в Псковской – в 1394 г., в Новгородских – в 1401 г. До 1426 г. пороки еще упоминаются рядом с пушками, но затем исчезают окончательно.
Д. Уваров
Средневековые метательные машины западной Евразии
historicaldis.ru
Новая придворная знать и ее пороки. Быт и нравы царской России
Новая придворная знать и ее пороки
При Михаиле быстро сложился новый придворный круг людей. В центре этого круга были любимые племянники Марфы Ивановны, Салтыковы, а за ними другие родственники и приятели. Окружавшие Михаила люди получили власть, а вместе с ней и влияние, и материальные блага, связанные с властью. Старое боярство быстро вытеснялось новой знатью из крупных землевладельцов, среди которых вместе со знатными людьми появились и приказные деятели, и влиятельные дьяки.
Нравы новых людей у власти оставляли желать лучшего. Их вымогательства и хищения вызывали недовольство народа. Дела в приказах решались через большие взятки, которые и решали исход дела в пользу сильных. В народе осуждали бояр, которых, по образному выражению А.Е. Преснякова, «враг-дьявол возвысил на мздоимание, на расхищение царских земель и утеснение народа».
Опытные, но жадные и случайные люди, которые возвысились благодаря близости к царскому двору, принесли с собой интриги и произвол, на что обращали внимание даже иностранцы. У многих отсутствовали чувство долга и дисциплина. Это были люди грубые и невежественные. Между ними постоянно возникали разногласия и разгорались споры, которые не прекращались даже в присутствии царя; после взаимных оскорблений они обычно переходили к драке. Сам Михаил, однако, не предпринимал никаких мер для устранения этого дикого поведения.
Старые аристократы ревниво оберегали свою привилегию высокородства и спорили друг с другом из-за старшинства. Так, однажды на придворном обеде дядя царя уступил первое место Мстиславскому, второе же место у него уже начал оспаривать другой сановник, Лыков. Чтобы прекратить подобные раздоры, царь, несмотря на свою кротость, прибегал к кнуту, но бояре, как и сто лет назад, предпочитали лучше умереть, чем поступиться принципами своего родства.
Местничество[196] в Московском государстве во время правления царя Михаила приобрело крайнее развитие, и бояре больше царского наказания боялись нарушить местнические правила. Виновный в нарушении этих правил выдавался сопернику «с головою». Это была очень простая и дикая церемония, которая состояла в том, что обидчик должен был в сопровождении провожатого отправиться к обиженному. Обидчик должен был отвесить глубокий поклон обиженному, не имел права слезть с коня во дворе его дома и выслушивал грубую матерную брань, которая сопровождала всю процедуру.
Олеарий отмечал, что среди русских придворных существовал порок, который состоял в том, что те, кто имел частый доступ к царю, пользовались этим в корыстных целях. Эти люди отличались неумеренной жадностью и страстью к наживе. Но перед ними заискивали, старались относиться как можно более почтительно, делали им подарки. Через взятки можно было решить любой вопрос.
Брать подарки было запрещено под угрозой наказания кнутом, но это не стало препятствием для злоупотреблений. Охотно брали взятки писцы. Благодаря этому выдавались даже государственные секреты. Иногда писцы сами предлагали за деньги продать некоторые сведения, но часто подсовывали иностранцам ненужные дела вместо нужных сведений, и выяснялось это только после передачи бумаг.
Но вместе с проявлениями нежелательных явлений, работа по восстановлению административной и военной власти продвигалась.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
culture.wikireading.ru
История гомосексуализма в России | Владимир Нижегородский
Гомосексуализм (содомия) в Древней Руси (XI-XVII века)
Гомосексуальность существует ровно столько, сколько существует человечество. В законах библейского Моисея сказано: "Не ложись с мужчиной, как с женщиною - это мерзость". Но ложились и древние евреи, и древние греки, и римляне. Жители тогда еще не открытых Америк, точно так же, как и чернокожие обитатели Африканского континента находили особый изыск в мужских ласках. Эллины сумели возвести педерастию (от греческого pederasty - "любовь к мальчикам") в своеобразный культ, наделив богов собственными пристрастиями, и небожители на Олимпе могли предаваться оргиям, так же как Сократ и эпикурейцы на грешной земле.
От греков гомосексуальность перекочевал к римлянам на западе и к скифам и сарматам на востоке. Отец истории Геродот двусмысленно повествует о скифских женоподобных предсказателях судьбы, а золотые украшения из курганов сохранили для потомков пикантные сценки отдыха скифских воинов. Древние славяне, в силу географического положения и тяжести климатических условий, не располагающих к любовным игрищам на свежем воздухе, несколько позже познакомились с содомским грехом, но то, что гомосексуальность существовал в их среде в качестве обычного полового действия между согласными на то партнерами, сомнению не подлежит.
Понятие "содомии" в Древней Руси (также о понятии "содомии" в Древней Руси см. здесь) было таким же расплывчатым, как на Западе, обозначая и гомосексуальные отношения, и анальный секс независимо от пола партнеров и вообще любые отклонения от "нормальных" сексуальных ролей и позиций, например совокупление в позиции "женщина сверху". Самым серьезным грехом считалось "мужеложство", когда сношение с неподобающим партнером усугублялось "неправильной" сексуальной позицией (анальный секс). Однако на Руси к этому пороку относились терпимее, чем на Западе; церковное покаяние за него колебалось от одного года до семи лет, в тех же пределах, что и гетеросексуальные прегрешения. При этом во внимание принимали и возраст грешника, и его брачный статус, и то, как часто он это делал, и был ли он инициатором действия или его объектом. К подросткам и холостым мужчинам относились снисходительнее, чем к женатым. Если анального секса не было, речь шла уже не о мужеложстве, а о рукоблудии, которое наказывалось мягче. Лесбиянство обычно считалось разновидностью мастурбации. Новгородский епископ Нифонт (XII в.) даже считал сексуальный контакт двух девушек-подростков меньшим грехом, чем блуд с мужчиной, особенно если девственная плева оставалась целой.
Как указал В.Розанов во второй редакции своей книги "Люди лунного света" (1913), примеры гомосексуализма можно найти уже в житийной литературе средневековой Руси. В "Сказании о Борисе и Глебе" (11 в.), при описании убийства князя Бориса приспешниками его единокровного брата Святополка Окаянного, упоминается его любимый "отрок, родом угрин" (т.е. венгр), именем Георгий. Борис "возложил" на Георгия изготовленное для него золотое ожерелье, потому что любил его "паче меры". Когда убийцы пронзили Бориса мечами, Георгий "повергся" на его тело, говоря: "Да не остану тебя, господин мой драгый! Да идеже красота тела твоего увядаетъ, ту и азъ съподобленъ буду животъ свои съконьчати". После такого заявления Георгия закололи и выбросили из шатра. Позже убийцы не смогли справиться с застежкой золотого ожерелья, подаренного Борисом Георгию, и, чтобы им завладеть, отсекли голову Георгия и забросили ее так далеко, что нельзя было воссоединить ее телом для христианского погребения. Из всей свиты Бориса уцелел от резни только брат Георгия Угрина, Моисей. О его дальнейшей судьбе рассказано в "Житии преподобного Моисея Угрина", содержащегося в Киевском Патерике. Моисей был взят в плен слугами Святополка и продан в рабство знатной польке. Эта женщина, как сообщается в житии, влюбилась в Моисея из-за его богатырского сложения. Целый год она умоляла его жениться на ней, однако его женщины не интересовали, и он предпочитал проводить время в обществе русских пленных. По истечении года его насмешливые отказы разозлили польку,в чьей власти он находился. Она приказала, чтобы Моисею дали сто ударов плетью и ампутировали его половые органы, добавив: "Не пощажу его красоты, чтобы и другие ею не наслаждались!" Со временем Моисей Угрин добрался до Киево-Печерской лавры, где он принял монашество и прожил еще 10 лет, предостерегая молодых людей от греха и женского соблазна. православная церковь причислила Моисея Угрина к лику святых как героя стойкости и целомудрия. Однако, как считал В.В.Розанов, сквозь шаблонную житийную формулу, унаследованную от Визинтии и сквозь влияние библейского рассказа о Иосифе и жене Пентефрия в "Житии преподобного Моисея Угрина" просвечивает повесть о средневековом гомосексуалисте, наказанном за отказ вступить в гетеросексуальный брак. Еще один пример указывает на наличие гомосексуализма в Киевской Руси: князь Георгий, сын Андрея Боголюбского (12 в.) женился на знаменитой грузинской царевне Тамаре, но был ею отвергнут и отослан обратно в Россию, когда выяснилось, что он ей изменял с мужчинами из ее свиты. Однако широчайшее распространение этого явления наблюдается в эпоху Московской Руси, особенно в 15, 16 и 17 веках. Об этом пишут, иногда с удивлением или негодованием, почти все иностранные путешественники, оставившие свои описания пребывания на Руси, начиная с наиболее известных - Герберштейна, Олеария, Маржерета и т.д. Причем гомосексуальные склонности, по показаниям иностранцев, встречались во всех слоях населения, от крестьян до царствующих особ.
Богатый в культурном отношении Киевский период русской истории (с 11 по 13 век) был прерван 250 годами монгольского ига и набегами кочевых племен. Русь, восстановившая свою независимость с новой столицей в Москве, восприняла многое из нравов и обычаев монгольских захватчиков. Теперь женщины начали подвергаться сегрегации, были удалены от общественной жизни, и, по-существу, не получали никакого образования (в Киевской Руси знатные женщины могли читать и писать, зачастую знали более одного иностранного языка, участвовали в деловой жизни). Браки на Руси устраивались по договоренности семейств, супруги обычно были незнакомы друг с другом и в первый раз встречались во время церемонии их венчания. Отсутствуют какие-либо письменные свидетельства романтических или чувственных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, если они могли быть вообще на Руси в 16 веке. Вместо этого имеется множество свидетельств, как иностранных, так и местных наблюдателей, которые сходятся во мнении о поразительной распространенности мужского гомосексуализма.
Православную церковь очень заботило распространение гомосексуальности в монастырях, но к бытовым ее проявлениям относились довольно равнодушно. В "Домострое" содомия упоминается вскользь ("И те бы священники и дьяконы и дьяки избранные учили своих учеников страху Божию и хранили во всякой чистоте и блюли их ото всякого растления, наипаче же от скверного содомского греха и рукоблудия и ото всякой нечистоты..." Предающиеся же содомии "Царствия Божия не наследят"). В "Стоглаве" (1551) ей посвящена специальная глава "О содомском грехе", предписывающая добиваться от виновных покаяния и исправления, которые не исправляются, ни каются, и вы бы их от всякие святыни отлучали, и "в церковь входу не давали". Однако, как не без иронии подметил Леонид Хеллер, пьянство осуждается там гораздо более темпераментно.
Однако, похоже, увещевания действовали плохо. В епископском поучении, помещенном в "Кормчей книге" XV века, сборнике церковных и государственных правил, автор гневно обличает содомскую пагубу. Уставы преподобного Ефросия и преподобного Иосифа Волоцкого запрещают допускать в монастыри подростков мужского пола. Правда, монастырские уставы составлялись по примеру греческих, но русская действительность показывала, что постановления святых отцов подразумевали не столько гипотетическую опасность, сколько регистрировали печальные реалии монастырского быта. Содомии был подвержен даже тогдашний глава русской церкви митрополит Зосима.
Старец Филофей из Трехсвятительского монастыря в Пскове умолял великого князя Василия Ивановича искоренить из своего православного царства горький плевел содомии.
Преподобный считал необходимым писать об этом правителю Русского государства потому, что порок принял широчайший размах. О том же говорят и другие источники. В сочинениях митрополита Даниила (XVI в.) содержится множество обличении против половой невоздержанности его современников, и в том числе обличение содомии. Протестуя против обычая многих мужчин румяниться и выщипывать волосы из бороды и усов, Даниил дает понять, что это делается с определенными нечистыми намерениями. По словам Даниила, в то время в стране господствовали грубые чувственные пороки.
Аскетичный монах высказывал мнение, противное христианской нравственности: Даниил требовал оскопления всех гомосексуалов для достижения и сохранения целомудрия.
Против содомии направлено "Слово на потопляемых и погибаемых без ума, богомерзким гнусным содомским грехом, в муках вечных" Максима Грека. Видно, что в груди преподобного кипело негодование. Он находил, что занимающихся мужеложством необходимо сжигать на кострах и предавать вечной анафеме.
В 1552 году митрополит Макарий в послании царскому войску, стоявшему под Казанью, в Свияжске, гневался, что государевы воины "содевали со младыми юношами содомское зло, скаредное и богомерзкое дело". Не гнушались православные богатыри и пленными, используя их в качестве наложников
Второстепенный английский поэт Джордж Тэрбервилл побывал в Москве в составе дипломатической миссии в 1568 г. Это было во время одной из самых кровавых чисток, организованных опричниной Ивана Грозного. Тэрбервилла поразили не столько казни, сколько открытый гомосексуализм среди русских крестьян, которых он научился называть русским словом "muzhik". В стихотворном послании "К Данси" (оно адресовано его другу Эдварду Данси) поэт писал:
Хоть есть у мужика достойная супруга,
Он ей предпочитает мужеложца-друга.
Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.
Вот в грех какой его ввергает хмель.
(дословный вариант более груб:
Даже если у мужика есть веселая и красивая жена,
Потакающая его звериной похоти,
Он все равно предается содомскому греху.
Чудовище с большей охотой ляжет в постель с мальчиком,
Нежели с любой девкой: на пьяну голову совершает он такой грязный грех.
Женщина, дабы отплатить за ночные мужнины измены,
По примеру супруга бросается во все тяжкие.
А сдругой стороны, Великий князь Московский Василий III (царствовал с 1505 по 1533 г.) имел,, как представляется, исключительно гомосексуальную ориентацию. Он заточил в монастырь свою первую жену, Соломонию Сабурову, когда у нее после 20 лет супружества не было детей, скорее всего по вине мужа. После этого Василий женился на княжне Елене Глинской, но исполнить с ней свои супружеские обязанности он мон только при условии, что к ним происоединялся в раздетом виде один из офицеров его стражи. Елена этому противилась, но не из моральных соображений, как можно было бы думать, но из опасения, что в случае разглашения на ее детей может пасть подозрение в незаконнорожденности. Оба не желали пойти друг другу навстречу.
Один из сыновьев Василия III и Елены Глинской родился слабоумным, а другой правил Россией как Иван IV, более известный как Иоанн Грозный. Грозный был женат не менее 7 раз, но его также привлекали молодые мужчины в женском одеянии. Сын одного из его главных опричников, Алексея Басманова, юный Федор Басманов ("с девичьей улыбкой, с змеиной душой", по словам А.К.Толстого), достиг высокого положения при дворе благодаря его соблазнительным пляскам в женском костюме перед царем. А.К.Толстой писал с большой откровенностью о характере Федора и его связи с царем в своем историческом романе "Князь Серебряный" (1869). Особенно впечатляюще сцена, в которой приговоренный к пыткам Федор хочет разгласить московскому населению природу своих отношений с царем, но его в тот же момент обезглавливает Малюта Скуратов, на что Федор и рассчитывал, чтобы избежать пыток. Этот же материал использовал и С.М.Эйзенштейн в своем фильме о Грозном ("пляска с личинами"), но придал эпизоду с Федором политический, а не эротический смысл, которым эпизод был на самом деле наполнен. Князь Оболенский-Овчининин в порыве ревности упрекал нового царского любовника Федора Басманова: "Предки мои и я всегда служили государю достойным образом, а ты служишь ему содомией".
Митрополит Даниил писал Ивану Грозному, что многие порицают брак и одобряют мужеложство. Вряд ли он встретил понимание в помазаннике Божием...
Однако гомосексуальность в Московии не ограничивалась только царским двором. Сигизмунд фон Герберштейн, посетивший Русь в период правления Василия III в качестве посла Священной Римской империи, отмечает в своей книге "Записки о московских делах", что мужской гомосексуализм распространен во всех социальных слоях.
Судя по всему, гомосексуальное поведение мужчин Московской Руси не обуздывалось ни законом, ни обычаем. Как писал хорватский священник Юрий Крижанич, проживавший в России с 1659 по 1677 год, "здесь, в России, таким отвратительным преступлением просто шутят, и ничего не бывает чаще, чем публично в шутливых разговорах один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху, недостает только, чтобы при всем народе совершали это преступление". Единственный протест в этой сфере, дошедший с допетровской эпохи, исходил от церковных деятелей. Протопоп Аввакум, глава старообрядцев во время церковного раскола 17 века, считал, что любой мужчина, бреющий бороду, - гомосексуалист. В своей колоритной биографии "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное" рассказывается, как "неистовый протопоп" привел в ярость воеводу Василия Петровича Шереметьева тем, что отказался благославить его сына, "Матфея бритобрадца". По мнению Аввакума, этим юноша пытался придать своей внешности более соблазнительный вид. Комментируя это место, Н.К.Гудзий писал: "Мода брить бороду пришла на Русь с Запада в 16 веке. ее усвоил даже Великий князь Василий Иванович.... Бритье бороды тогда имело эротический привкус и стояло в связи с довольно распространенным пороком мужеложества". За отказ благославить "бритобрадца" воевода приказал бросить Аввакума в Волгу.
Митрополит Даниил, популярный московский проповедник эпохи Василия III, в своем двенадцатом поучении (1530-е гг.) сначала обличает сластолюбцев, проводящих время с "блудницами", но вскоре переходит к другому виду сластолюбия и дает довольно лапидарный портрет женственных гомосексуалистов своего времени: "...женам позавидев, мужское свое лице на женское претворяши. Или весь хощеши жена быти?" Даниил рассказывает, как эти молодые люди бреют бороду, натираются мазями и лосьонами, румянят себе щеки, обрызгивают тело духами, выщипывают волосы на теле щипчиками, переодеваются по нескольку раз в день и напяливают на ноги ярко-красные сапоги, слишком маленькие для них. Он сравнивает их приготовления с вычурно приготовленными блюдами ("некая брашна дивно сътворено на снедь") и интересуется, кого они такими приготовлениями надеются прельстить. Резюмируя все сохранившиеся сведения о мужском гомосексуализме в допетровской Руси, известный историк С.Соловьев писал - в викторианско-пуританском тоне, свойственном его эпохе: "Нигде, ни на Востоке, ни на Западе, не смотрели так легко, как в России, на этот гнусный, противоестественный грех".
Итак, в века, когда гомосексуалистов в Англии, Голландии, Испании и Германии казнили, пытали, жгли на кострах, во всех русских законодательствах от Русской Правды и до эпохи Петра Великого это явление не упоминалось и было безнаказанным.
Затишье, в котором прошло царствование первых Романовых, сменилось бурной эпохой Петра Великого. Царь-Преобразователь отличался широтой взглядов на интимные отношения: он чрезвычайно любил представительниц прекрасного пола, не брезгуя при этом и гомосексуальными контактами. Польский историк К.Валиптевский пишет не только об интимных отношениях Петра с Меншиковым, но и о некоем красивом мальчике, которого он содержал "для своего удовольствия", а также о "неистовых припадках похотливости" царя, во время которых "пол становился для него безразличным".
В отсутствие жены, Петр неизменно укладывал на ее место кого-нибудь из своих денщиков. "Если у бедняги бурчало в животе, царь вскакивал и немилосердно бил его", - пишет о царских забавах Валишевский. В 1722 году Петр поручил саксонскому художнику Данненгауеру запечатлеть одного такого сожителя в обнаженном виде.
В первый раз в истории России наказание за "противоестественный блуд" появилось в воинских артикулах Петра Первого. В 1706 г., в "Кратком артикуле" князя Меншикова, было введено сожжение на костре за "ненатуральное прелюбодеяние со скотиной", "муж с мужем" и "которые чинят блуд с ребятами". Однако царь Петр, в интенсивной половой жизни которого не отсутствовали черты бисексуальности, это наказание (взятое из шведского воинского статуса) вскоре смягчил. В воинском уставе Петра 1716 года уже не говорится о сожжении, только о телесном наказании и о "вечной ссылке" в случае применения насилия. По мнению дореволюционных специалистов, эти уложения петровского времени распространялись только на военных и не касались остального населения: "Если кто отрока осквернит или муж с мужем мужеложствуют, оные, яко в прежнем артикуле помянуто, имеют быть наказаны. Ежели насильством то учинено, тогда смертию или вечно на галеру ссылкою наказать".
История гомосексуализма в России. Россия ХVIII - 1 половины ХIХ веков
Итак, Петр Первый, втащивший (можно было бы добавить: пиная и прикрикивая) в начале 18 века старую Русь в современный мир, был одним из тех высоко одаренных половой энергией гетеросексуалистов, которые при случае не упустят возможности побаловаться и с мальчиками.
Взаимоотношения Петра со своим протеже Александром Меньшиковым, сыном придвроного конюха, которого он сначала сделал своим ординарцем, потом присвоил звание генералиссимуса и в конце концов дал титул светлейшего князя, очевидно имели сексуальную почву. В военных позодах Петр спал с солдатами, предпочитаю при этом обладателей больших и дряблых животов, на которые он, отдыхая, любил укладывать голову. Должность согревающего царскую постель была весьма непопулярна в петровских войсках, поскольку за случайное бурчание в животе назначалось наказание битьем.
Другим представителем династии Романовых, обладавшим бисексуальными наклонностями, была племянница Петра Анна Иоанновна.
Она правили Российской империей с 1730 по 1740 г. и по свидетельствам некоторых мемуаристов имела интимные связи с несколькими своими фрейлинами.
Екатерина II, немка по происхождению, могла иметь короткое лесбийское увлечение княгиней Дашковой, знатной женщиной, которая помогла Екатерине сбросить с престола ее мужа Петра III и захватить трон. В мемуарах Дашковой есть очень сильный намеки на их такую связь. Но неукротимая страсть Екатерины к необиженным природой мужчинам-самцам (термин "царицын размер" не является, видимо, беспочвенной выдумкой) помешала возникновению у нее каких-либо серьезных чувственных связей с другими женщинами. В екатерининсткую эпоху гомосексуализм менее заметен в русской литературе и общественности, чем в предыдущий и последующий периоды, хотя сама императрица отнеслась к этому явлению весьма гуманно, предложив в своем "Наказе" 1767 г. отменить существовавшие для военных телесные наказания, полагая "стыд и бесславие", сопровождающие арест за гомосексуальное поведение, достаточной острасткой.
Кажется, нет оснований для включения сына Екатерины Павла I, ее внука Александра I, и генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова (главнокомандующего русскими войсками во время Отечественной войны 1812 года) в список "знаменитых гомосексуалистов", появляющийся в отдельных изданиях в последнее время. Такая информация о них имеется в польских источниках, однако можно отметить, что обвинения в гомосексуализме исходят от людей, которые хотели бы жтим порочащим аргументом дискредитировать русских за их роль в разделе Польши.
Конец XVIII - первая половина XIX века
С увеличением контакта с жителями западных стран русские люди 18 века поняли, что в этих странах относились к "содомскому греху" с ужасом и яростью. Среди прочих западных взглядов и обычаев, которые были занесены в Россию в результате петровских реформ, была и гомофобия. Открытый гомосексуализм допетровской Руси ушел как бы в подполье. Терпимость и признание гомосексуальных отношений сохраняется в беднейших слоях и в отдаленных северных регионах среди членов эсхатологических крестьянских сект, отделившихся от старообрядчества, особенно среди хлыстов и скопцов. [Николай Клюев, большая часть ранней лирики которого представляет литературную обработку фольклора скопцов и хлыстов, включил несколько эпатирующих образцов гомосексуальной поэзии этих религиозных сект в свой сборник "Братские песни" (1912 г.)].
На другом конце социальной лестницы мы находим ряд ультраконсервативных официальных писателей - гомосексуалистов, относящихся к верхним эшелонам царской России 18-19 веков. В дворянской и чиновничьей среде гомосексуальные связи иногда приобретали скандальный характер не столько сами по себе, сколько потому, что были тесно связаны с непотизмом и коррупцией: могущественные люди расплачивались со своими молодыми протеже высокими назначениями, никак не соответствовавшими их способностям. В быту к этому относились спокойно-иронически. При Александре I гомосексуальными наклонностями славились министр просвещения и духовных дел князь А. Н. Голицын, возглавлявший Министерство просвещения и духовных дели министр иностранных дел, а затем канцлер
Н. П. Румянцев
Иван Дмитриев (1760-1837), знаменитый русский поэт-сентименталист и автор острых сатирических стихотворений, сладостных любовных романсов и дидактических басен, был министром юстиции в годы правления Александра I. Занимая высокий государственный пост, Дмитриев выделался протекционизмом: он окружал себя красивыми молодыми помощниками, отдельные из которых, благодаря своим любовным связям с ним активно продвигались по службе. Однако в поэзии Дмитриев носил маску гетеросексуала, его герой в стиле неоклассицизма томится то по некоей Хлое, то по Филлиде. Исключением могут служить только переложенные Дмитриевым две басни Лафонтена - "Два голубя" и "Два друга", которые он превратил в недвусмысленные описания романтической любви двух мужчин. Сами не осознавая того, мы встречаемся с Дмитриевым в первом акте чеховского "Дяди Вани", где цитируется одно из его сатирических произведений, а также в "Романсе" из сюиты Прокофьева "Поручик Киже", являющемся музыкальным переложением его наиболее известного лирического стихотворения. Таким же протекционистом был и граф Сергей Уваров (1786-1855) - министр народного просвещения при Николае I. Для улучшения своего материального положения он женился на богатой наследнице и имел от нее несколько детей. Однако любил он очень красивого, но не очень большого ума, князя Михаила Дондукова-Корсакова. Уваров сумел назначить своего любовника вице-президентом Императорской Академии Наук и устроил его на должность ректора Санкт-Петербургского университета. Отсутствие у Дондукова-Корсакова каких-либо профессиональных способностей, соответствующих этим двум постам, было настолько очевидно, что это послужило для ряда поэтов, включая Пушкина, поводом к едким эпиграммам, в которых среди качеств, позводивших юному князю водрузиться в вице-президентское кресло, основным являлась его задница.
Уваров был автором формулы "Православие, самодержавие, народность". Эти назначение, при полном отсутствии квалификации, вызвали ряд ехидных эпиграмм, в том числе пушкинское:
В Академии наук
Заседает князь Дундук
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что ... есть.
(эта эпиграмма существует в двух вариантах, один из которых более печатен, чем другой).
Относясь отрицательно к связи между Уваровым (его личным врагом) и Дондуковым-Корсаковым, А.С.Пушкин писал о гомосексуализме с большим сочувствием в стихотворении, приложенном к письму из Одессы Филиппу Вигелю (1786-1856) от 22 октября - 4 ноября 1823 года. Вигель был градоначальником Керчи, а впоследствии вице-губернатором Бессарабии. Вигель, известный своими посмертно опубликованными мемуарами (с открытым описанием его половых склонностей), дружил с Пушкиным во времена бессарабской ссылки последнего. В стихотворении, начинающемся словами "Проклятый город Кишинев!", Пушкин сетует, что Содом, этот "Париж Ветхого завета", был разрушен "небесным громом" - уж лучше бы грязный, провинциальный Кишинев, где тогда жил Вигель:
Содом, ты знаешь, был отличен не только вежливым грехом,
Но просвещением, пирами, Гостеприимными домами
И красотой нестрогих дев!
Как жаль, что ранними громами Его сразил Еговы гнев.
В этом послании Пушкин выражает сочувствие Вигелю, что тот должен жить в Кишиневе, а не в цивилизованном городе, желает удачи в завоевании сердец юношей Кишинева и обещает навестить его, но только при одном условии:
Тебе служить я буду рад -
Стихами, прозой, всей душою,
Но, Вигель, - пощади мой зад!
Далее, и в стихотворении, и в сопроводительном письме, Пушкин указывает Вигелю на "трех милых красавцев" - братьев, живущих в Кишиневе, которые могли бы пойти навстречу желаниям Вигеля, из которых думаю, годен на употребление в пользу собственно самый меньшой: NB он спит в одной комнате с братом Михаилом и трясутся немилосердно - из этого можете вывести важные заключения, представляю их вашей опытности и благоразумию"... Ко всему этому Пушкин относится вполне благожелательно, хотя и подчеркивает в последней строке стихотворения, что его самого этот вид любви не интересует. Тем не менее среди его окружения было не мало "голубых" . Тайный советник Ф.Ф. Вигель, бывший в 1829-1840 годах директором Департамента иностранных вероисповеданий, несколько раз попадал в немилость за свою приверженность к мужскому полу. Это дало повод князю П. Вяземскому сказать о нем: "Не претерпевший никогда особенного несчастия, он был несчастлив сам по себе и сам от себя". Впрочем, невзгоды миновали Вигеля, и в дневнике от 7 января 1834 года А.С. Пушкин записал: "Вигель получил звезду и очень ею доволен - он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложстве".
В начале 40-х годов прошлого века, в связи со скандальной историей в том же духе, в которой Вигель, однако, лично не участвовал, он высылается из Петербурга вместе с группой приверженцев. Он отбыл в Москву, другие же - в свои имения, и на этом дело заминается. Через три года он, как ни в чем ни бывало, возвращается в Петербург и продолжает свою карьеру.
При Александре I этим прославился старший сын известного архивиста Н.Н.Бантыш - Каменского и брат исследователя истории Украины
Д.Н.Бантыш - Каменского, В.Н.Бантыш - Каменский, служащий Коллегии иностранных дел, которого вскользь упоминает А.С.Пушкин в своих эпиграммах. "Не краснея, нельзя говорить об нем, более ничего не скажу: его глупостию, его низостию и пороками не стану пачкать сих страниц", - так лицемерно пишет Ф.Ф.Вигель, сам будучи известным поклонником той же формы любви. В.Н.Бантыш - Каменский был выслан без суда и следствия в ноябре 1823 года в Вятку после серии открытых скандалов. Спустя три года, он был уже переведен из ссылки в Тобольск, к брату Д.Н.Бантыш - Каменскому, который был там губернатором, но вскоре в 1828 году был арестован по "Высочайшему его Императорского величества повелению снова и заключен за предосудительные поступки" в Суздальский Спасо- Ефимовский монастырь, где вскоре умер на 51 году жизни. В данном случае неразумный и откровенно вызывающий образ жизни привел к неизбежной реакции со стороны властей. В свое время
В.Н.Бантыш - Каменский был вызван к императору, и тот "приказал ему составить список всех знакомых по сей части. На что Бантыш - Каменский представил ему таковой список, начав оный министром просвещения, потом стоял канцлер и так далее.... Он имел после этого аудиенцию у государя и удостоверил его клятвенно в истине своего донесения." А.С. Пушкин высмеял вкусы А.Н.Голицына и его покровительство В.Н.Бантыш - Каменскому в своих эпиграммах.
История гомосексуализма в России. М.Ю.Лермонтов и его "Голубые" стихи Менее благожелательно, но явно с большим знанием дела о гомосексуальной любви писал М.Ю.Лермонтов в своих юнкерских стихотворениях. Эти произведения не включаются в полные собрания сочинений Лермонтова, но они неоднократно печатались в России и заграницей. Наиболее авторитетное издание появилось в американском периодическом альманахе "Russian Literature Triquarterly" (1976, " 14) со статьей У.Хопкинса. Написанное, когда Лермонтову было 20 лет и он учился в юнкерском училище, эти произведения рассматриваются как эротические или порнографические, в зависимости от точки зрения исследователя. Стилистически они представляют переходный момент от юношеской к более зрелой манере среднего периода творчества Лермонтова - настоящей поэтической зреслости он достигнет через три года, в стихотворении "На смерть поэта". Две из пяти вещей, опубликованных У.Хопкинсом, - "Тизенгаузену" (адресовано соученику лермонтова, павлу павловичу Тизенгаузену) и грубоватая "Ода нужнику" - имеют темой гомосексуальные сношения между юнкерами. Описаны эти встречи с такой конкретностью, что Лермонтов, если он в них и не участвовал, то должен хотя бы присутствовать и наблюдать. Вы можете прочитать их здесь. Среди друзей Лермонтова и его окружения также было немало геев.
Как и в Европе, гомосексуальные отношения шире всего были распространены в закрытых учебных заведениях - Пажеском корпусе, кадетских корпусах, юнкерских училищах, Училище Правоведения и т. д. Поскольку явление было массовым, воспитанники воспринимали его спокойно и весело, посвящая ему множество похабных шуточных стихотворений. Гомосексуальным приключениям целиком посвящена написанная от первого лица большая анонимная (приписываемая А. Ф. Шенину) поэма лПохождения пажа". Одно из его стихотворений см. тут. Лирического героя этой поэмы сразу же по поступлении в Пажеский корпус соблазнил старший товарищ, после этого он сам вошел во вкус, стал "давать" всем подряд, включая начальников, одеваться в женское платье и сделал благодаря этому блестящую карьеру. В поэме также подробно описаны эротические переживания, связанные с поркой. Все это сильно напоминает нравы и обычаи английских аристократических школ XIX в. Попытки школьной или корпусной администрации пресекать "непотребство" успеха не имели. После очередного скандала с Шениным, который в 1846 г. был за педерастию отстранен от службы и выслан из Петербурга, в столице рассказывали, что военный министр призвал Ростовцева и передал ему приказание Государя, чтобы строго преследовать педерастию в высших учебных заведениях, причем кн. Чернышев прибавил: Яков Иванович, ведь это и на здоровье мальчиков вредно действует". - "Позвольте в том усомниться, ваша светлость," отвечал Ростовцев, "откровенно вам доложу, что когда я был в Пажах, то у нас этим многие занимались; я был в паре с Траскиным (потом известный своим безобразием толстый генерал), а на наше здоровье не подействовало!" Князь Чернышев расхохотался". По свидетельству Куприна, в закрытых мужских учебных заведениях и позже существовали уродливые формы ухаживания (точь-в-точь как в женских институтах "обожание") за хорошенькими мальчиками, за "мазочками". Хотя Н. Г. Помяловский в лОчерках бурсы" ничего не говорит о гомосексуальных связях между воспитанниками, они легко угадываются в напоминающих современную дедовщину отношениях второкурсных и первокурсников. Младший мальчик, обслуживающий Тавлю, называется "Катькой", подчеркивается, что он хорошенький, а однажды был разыгран даже обряд женитьбы Тавли на "Катьке". Такие игры не могли не иметь сексуальной окраски. В юношеской среде эти отношения обычно воспринимались как игра и замена недоступных женщин; часто так оно и было в действительности. Для взрослых влечение к лицам собственного пола становилось проблемой, а для тех, кто не мог его принять, трагедией.
Неосознанный, латентный гомоэротизм играл большую роль в жизни русских интеллектуалов. Кажется, что удивительные и оригинальные творческие жизни Бакунина и Гоголя были в какой-то степени компенсацией их сексуального бессилия. В эгоцентрическом мире русского романтизма было вообще мало места для женщин. Одинокие размышления облегчались главным образом исключительно мужским товариществом в ложе или кружке. От Сковороды до Бакунина видны сильные, намеки на гомосексуальность, хотя, по-видимому, сублимированного, платонического сорта. Эта страсть выходит ближе к поверхности в склонности Иванова рисовать нагих мальчиков и находит свое философское выражение в модном убеждении, что духовное совершенство требует андрогинии или возвращения к первоначальному единству мужских и женских черт". Однако в каждом конкретном случае это выглядит по-разному.
Следует также отметить фигуру "кавалерист-девицы" Надежды Дуровой (1783-1866), которую по современной классификации, пожалуй, следует отнести к транссексуалам. Насильно выданная замуж за правительственного чиновника, она спустя 3 года покинула своего мужа и ребенка и, переодевшись в казачью военную форму, приняла участие в Отечественной войне 1812 года.
Как возникло слово "голубой"?
Одна из версий, объясняющая, почему прилагательное "голубой", стало существительным, определяющим половую ориентацию, зиждется на том основании, что гомосексуальность был в основном доступен только избранным, аристократическим слоям общества, тем, у кого в жилах текла голубая кровь.
Само понятие "голубая кровь" является калькой с французского выражения sang bleu, которое в свою очередь заимствовано у испанцев (sangre azul). Первоначально так называли себя аристократические семьи испанской провинции Кастилии, гордившиеся тем, что их предки никогда не вступали в браки с маврами и поэтому у них светлая кожа и вены голубоватого цвета.
По какой-то причине именно среди этих гордых идальго был особенно развит гомосексуальность...
Убедительных данных за справедливость такой этимологической гипотезы нет, но причины для ее существования имеются, хотя, по мнению известного сексопатолога И.Олейникова, термин "голубой" был введен в обиход американскими геями только в сороковых годах XX столетия.
Вернувшись домой после славной Отечественной войны 1812 года и последующего заграничного похода русской армии, молодые ветераны сделались грозой обеих столиц и множества губернских городов.
Кутежи, дуэли, бурные романы с замужними дамами и женатыми мужами стали привычным времяпрепровождением господ офицеров. Как и положено в победоносной армии, тон веселому безумству задавали гвардейцы и гусары, в числе которых оказалось до неприличия много будущих декабристов. В свою очередь многие очаровательные барышни и зрелые матроны, воодушевленные наплывом пылких поклонников, были готовы на все. Или, во всяком случае, на многое, кроме разве одного: объяснить, почему блестящие кавалергарды предпочитают ласкать друг друга, когда вокруг такое количество милых дам... Среди известных гомосексуалов золотого века русской культуры кавалергард князь А.Трубецкой, князь Петр Долгоруков, штаб-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка А. Зубов, обер-прокурор синода князь Л. Голицын, президент Академии наук С. Уваров, князь М. Дундуков-Корсаков. В этот список входит и убийца Пушкина Дантес со своим "приемным" отцом, голландским посланником бароном Геккерном.
"Голубые" стихи М.Ю.Лермонтова
К Т*** (Тизенгаузену)
Не води так томно оком,
Круглой жопкой не верти,
Сл
maxpark.com
Гомосексуализм в Древней Руси
Проект © НОРДИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО[в раздел] [на главную]
Гомосексуализм (содомия) в Древней Руси (XI-XVII века)
Гомосексуальность существует ровно столько, сколько существует человечество. В законах библейского Моисея сказано: "Не ложись с мужчиной, как с женщиною - это мерзость". Но ложились и древние евреи, и древние греки, и римляне. Жители тогда еще не открытых Америк, точно так же, как и чернокожие обитатели Африканского континента находили особый изыск в мужских ласках. Эллины сумели возвести педерастию (от греческого pederasty - "любовь к мальчикам") в своеобразный культ, наделив богов собственными пристрастиями, и небожители на Олимпе могли предаваться оргиям, так же как Сократ и эпикурейцы на грешной земле.
От греков гомосексуальность перекочевал к римлянам на западе и к скифам и сарматам на востоке. Отец истории Геродот двусмысленно повествует о скифских женоподобных предсказателях судьбы, а золотые украшения из курганов сохранили для потомков пикантные сценки отдыха скифских воинов. Древние славяне, в силу географического положения и тяжести климатических условий, не располагающих к любовным игрищам на свежем воздухе, несколько позже познакомились с содомским грехом, но то, что гомосексуальность существовала в их среде в качестве обычного полового действия между согласными на то партнерами, сомнению не подлежит.
Понятие «содомии» в Древней Руси было таким же расплывчатым, как на Западе, обозначая и гомосексуальные отношения, и анальный секс независимо от пола партнеров и вообще любые отклонения от «нормальных» сексуальных ролей и позиций, например совокупление в позиции «женщина сверху». Самым серьезным грехом считалось «мужеложство», когда сношение с неподобающим партнером усугублялось «неправильной» сексуальной позицией (анальный секс). Однако на Руси к этому пороку относились терпимее, чем на Западе; церковное покаяние за него колебалось от одного года до семи лет, в тех же пределах, что и гетеросексуальные прегрешения. При этом во внимание принимали и возраст грешника, и его брачный статус, и то, как часто он это делал, и был ли он инициатором действия или его объектом. К подросткам и холостым мужчинам относились снисходительнее, чем к женатым. Если анального секса не было, речь шла уже не о мужеложстве, а о рукоблудии, которое наказывалось мягче. Лесбиянство обычно считалось разновидностью мастурбации. Новгородский епископ Нифонт (XII в.) даже считал сексуальный контакт двух девушек-подростков меньшим грехом, чем «блуд» с мужчиной, особенно если девственная плева оставалась целой.
Как указал В.Розанов во второй редакции своей книги "Люди лунного света" (1913), примеры гомосексуализма можно найти уже в житийной литературе средневековой Руси. В "Сказании о Борисе и Глебе" (11 в.), при описании убийства князя Бориса приспешниками его единокровного брата Святополка Окаянного, упоминается его любимый "отрок, родом угрин" (т. е. венгр), именем Георгий. Борис "возложил" на Георгия изготовленное для него золотое ожерелье, потому что любил его "паче меры". Когда убийцы пронзили Бориса мечами, Георгий "повергся" на его тело, говоря: "Да не остану тебя, господин мой драгый! Да идеже красота тела твоего увядаетъ, ту и азъ съподобленъ буду животъ свой съконьчати". После такого заявления Георгия закололи и выбросили из шатра. Позже убийцы не смогли справиться с застежкой золотого ожерелья, подаренного Борисом Георгию, и, чтобы им завладеть, отсекли голову Георгия и забросили ее так далеко, что нельзя было воссоединить ее телом для христианского погребения.
Из всей свиты Бориса уцелел от резни только брат Георгия Угрина, Моисей. О его дальнейшей судьбе рассказано в "Житии преподобного Моисея Угрина", содержащегося в Киевском Патерике. Моисей был взят в плен слугами Святополка и продан в рабство знатной польке. Эта женщина, как сообщается в житии, влюбилась в Моисея из-за его богатырского сложения. Целый год она умоляла его жениться на ней, однако женщины его не интересовали, и он предпочитал проводить время в обществе русских пленных. По истечении года его насмешливые отказы разозлили польку, в чьей власти он находился. Она приказала, чтобы Моисею дали сто ударов плетью и ампутировали его половые органы, добавив: "Не пощажу его красоты, чтобы и другие ею не наслаждались!" Со временем Моисей Угрин добрался до Киево-Печерской лавры, где он принял монашество и прожил еще 10 лет, предостерегая молодых людей от греха и женского соблазна. Православная церковь причислила Моисея Угрина к лику святых как героя стойкости и целомудрия. Однако, как считал В. В. Розанов, сквозь шаблонную житийную формулу, унаследованную от Византии в "Житии преподобного Моисея Угрина" просвечивает повесть о средневековом гомосексуалисте, наказанном за отказ вступить в гетеросексуальный брак.
Еще один пример указывает на наличие гомосексуализма в Киевской Руси: князь Георгий, сын Андрея Боголюбского (12 в.) женился на знаменитой грузинской царевне Тамаре, но был ею отвергнут и отослан обратно в Россию, когда выяснилось, что он ей изменял с мужчинами из ее свиты.
Однако широчайшее распространение этого явления наблюдается в эпоху Московской Руси, особенно в 15, 16 и 17 веках. Об этом пишут, иногда с удивлением или негодованием, почти все иностранные путешественники, оставившие свои описания пребывания на Руси, начиная с наиболее известных – Герберштейна, Олеария, Маржерета и т. д. Причем гомосексуальные склонности, по показаниям иностранцев, встречались во всех слоях населения, от крестьян до царствующих особ.
Богатый в культурном отношении Киевский период русской истории (с 11 по 13 век) был прерван 250 годами монгольского ига и набегами кочевых племен. Русь, восстановившая свою независимость с новой столицей в Москве, восприняла многое из нравов и обычаев монгольских захватчиков. Теперь женщины начали подвергаться сегрегации, были удалены от общественной жизни, и, по-существу, не получали никакого образования (в Киевской Руси знатные женщины могли читать и писать, зачастую знали более одного иностранного языка, участвовали в деловой жизни). Браки на Руси устраивались по договоренности семейств, супруги обычно были незнакомы друг с другом и в первый раз встречались во время церемонии их венчания. Отсутствуют какие-либо письменные свидетельства романтических или чувственных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, если они могли быть вообще на Руси в 16 веке. Вместо этого имеется множество свидетельств, как иностранных, так и местных наблюдателей, которые сходятся во мнении о поразительной распространенности мужского гомосексуализма.
Православную церковь очень заботило распространение гомосексуальности в монастырях, но к бытовым ее проявлениям относились довольно равнодушно. В «Домострое» содомия упоминается вскользь ("И те бы священники и дьяконы и дьяки избранные учили своих учеников страху Божию и хранили во всякой чистоте и блюли их ото всякого растления, наипаче же от скверного содомского греха и рукоблудия и ото всякой нечистоты..." Предающиеся же содомии "Царствия Божия не наследят"). В «Стоглаве» (1551) ей посвящена специальная глава «О содомском грехе», предписывающая добиваться от виновных покаяния и исправления, «а которые не исправляются, ни каются, и вы бы их от всякие святыни отлучали, и "в церковь входу не давали". Однако, как не без иронии подметил Леонид Хеллер, пьянство осуждается там гораздо более темпераментно.
Однако, похоже, увещевания действовали плохо. В епископском поучении, помещенном в "Кормчей книге" XV века, сборнике церковных и государственных правил, автор гневно обличает содомскую пагубу. Уставы преподобного Ефросина и преподобного Иосифа Волоцкого запрещают допускать в монастыри подростков мужского пола. Правда, монастырские уставы составлялись по примеру греческих, но русская действительность показывала, что постановления святых отцов подразумевали не столько гипотетическую опасность, сколько регистрировали печальные реалии монастырского быта. Содомии был подвержен даже тогдашний глава русской церкви митрополит Зосима.
Старец Филофей из Трехсвятского монастыря в Пскове умолял великого князя Василия Ивановича искоренить из своего православного царства горький плевел содомии.
Преподобный считал необходимым писать об этом правителю Русского государства потому, что порок принял широчайший размах. О том же говорят и другие источники. В сочинениях митрополита Даниила (XVI в.) содержится множество обличении против половой невоздержанности его современников, и в том числе обличение содомии. Протестуя против обычая многих мужчин румяниться и выщипывать волосы из бороды и усов, Даниил дает понять, что это делается с определенными нечистыми намерениями. По словам Даниила, в то время в стране господствовали грубые чувственные пороки.
Аскетичный монах высказывал мнение, противное христианской нравственности: Даниил требовал оскопления всех гомосексуалов для достижения и сохранения целомудрия.
Против содомии направлено "Слово на потопляемых и погибаемых без ума, богомерзким гнусным содомским грехом, в муках вечных" Максима Грека. Видно, что в груди преподобного кипело негодование. Он находил, что занимающихся мужеложством необходимо сжигать на кострах и предавать вечной анафеме.
В 1552 году митрополит Макарий в послании царскому войску, стоявшему под Казанью, в Свияжске, гневался, что государевы воины "содевали со младыми юношами содомское зло, скаредное и богомерзкое дело". Не гнушались православные богатыри и пленными, используя их в качестве наложников
Второстепенный английский поэт Джордж Тэрбервилл побывал в Москве в составе дипломатической миссии в 1568 г. Это было во время одной из самых кровавых чисток, организованных опричниной Ивана Грозного. Тэрбервилла поразили не столько казни, сколько открытый гомосексуализм среди русских крестьян, которых он научился называть русским словом "muzhik". В стихотворном послании "К Данси" (оно адресовано его другу Эдварду Данси) поэт писал:
Хоть есть у мужика достойная супруга, Он ей предпочитает мужеложца-друга. Он тащит юношей, не дев, к себе в постель. Вот в грех какой его ввергает хмель.
(дословный вариант более груб:
Даже если у мужика есть веселая и красивая жена, Потакающая его звериной похоти, Он все равно предается содомскому греху.Чудовище с большей охотой ляжет в постель с мальчиком,Нежели с любой девкой: на пьяну голову совершает он такой грязный грех.Женщина, дабы отплатить за ночные мужнины измены, По примеру супруга бросается во все тяжкие.)
А с другой стороны, Великий князь Московский Василий III (царствовал с 1505 по 1533 г.) имел,, как представляется, исключительно гомосексуальную ориентацию. Он заточил в монастырь свою первую жену, Соломонию Сабурову, когда у нее после 20 лет супружества не было детей, скорее всего по вине мужа. После этого Василий женился на княжне Елене Глинской, но исполнить с ней свои супружеские обязанности он мон только при условии, что к ним присоединялся в раздетом виде один из офицеров его стражи. Елена этому противилась, но не из моральных соображений, как можно было бы думать, но из опасения, что в случае разглашения на ее детей может пасть подозрение в незаконнорожденности. Оба не желали пойти друг другу навстречу.
Один из сыновей Василия III и Елены Глинской родился слабоумным, а другой правил Россией как Иван IV, более известный как Иоанн Грозный. Грозный был женат не менее 7 раз, но его также привлекали молодые мужчины в женском одеянии. Сын одного из его главных опричников, Алексея Басманова, юный Федор Басманов ("с девичьей улыбкой, с змеиной душой", по словам А.К.Толстого), достиг высокого положения при дворе благодаря его соблазнительным пляскам в женском костюме перед царем. А. К. Толстой писал с большой откровенностью о характере Федора и его связи с царем в своем историческом романе "Князь Серебряный" (1869). Особенно впечатляюще сцена, в которой приговоренный к пыткам Федор хочет разгласить московскому населению природу своих отношений с царем, но его в тот же момент обезглавливает Малюта Скуратов, на что Федор и рассчитывал, чтобы избежать пыток. Этот же материал использовал и С. М. Эйзенштейн в своем фильме о Грозном ("пляска с личинами"), но придал эпизоду с Федором политический, а не эротический смысл, которым эпизод был на самом деле наполнен. Князь Оболенский-Овчининин в порыве ревности упрекал нового царского любовника Федора Басманова: "Предки мои и я всегда служили государю достойным образом, а ты служишь ему содомией".
Митрополит Даниил писал Ивану Грозному, что многие порицают брак и одобряют мужеложство. Вряд ли он встретил понимание в помазаннике Божьем...
Однако гомосексуальность в Московии не ограничивалась только царским двором. Сигизмунд фон Герберштейн, посетивший Русь в период правления Василия III в качестве посла Священной Римской империи, отмечает в своей книге "Записки о московских делах", что мужской гомосексуализм распространен во всех социальных слоях.
Судя по всему, гомосексуальное поведение мужчин Московской Руси не обуздывалось ни законом, ни обычаем. Как писал хорватский священник Юрий Крижанич, проживавший в России с 1659 по 1677 год, "здесь, в России, таким отвратительным преступлением просто шутят, и ничего не бывает чаще, чем публично в шутливых разговорах один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху, недостает только, чтобы при всем народе совершали это преступление". Единственный протест в этой сфере, дошедший с допетровской эпохи, исходил от церковных деятелей. Протопоп Аввакум, глава старообрядцев во время церковного раскола 17 века, считал, что любой мужчина, бреющий бороду, - гомосексуалист. В своей колоритной биографии "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное" рассказывается, как "неистовый протопоп" привел в ярость воеводу Василия Петровича Шереметьева тем, что отказался благословить его сына, "Матфея бритобрадца". По мнению Аввакума, этим юноша пытался придать своей внешности более соблазнительный вид. Комментируя это место, Н.К.Гудзий писал: "Мода брить бороду пришла на Русь с Запада в 16 веке. ее усвоил даже Великий князь Василий Иванович.... Бритье бороды тогда имело эротический привкус и стояло в связи с довольно распространенным пороком мужеложества". За отказ благословить "бритобрадца" воевода приказал бросить Аввакума в Волгу.
Митрополит Даниил, популярный московский проповедник эпохи Василия III, в своем двенадцатом поучении (1530-е гг.) сначала обличает сластолюбцев, проводящих время с "блудницами", но вскоре переходит к другому виду сластолюбия и дает довольно лапидарный портрет женственных гомосексуалистов своего времени: "...женам позавидев, мужское свое лице на женское претворяши. Или весь хощеши жена быти?" Даниил рассказывает, как эти молодые люди бреют бороду, натираются мазями и лосьонами, румянят себе щеки, обрызгивают тело духами, выщипывают волосы на теле щипчиками, переодеваются по нескольку раз в день и напяливают на ноги ярко-красные сапоги, слишком маленькие для них. Он сравнивает их приготовления с вычурно приготовленными блюдами ("некая брашна дивно сътворено на снедь") и интересуется, кого они такими приготовлениями надеются прельстить. Резюмируя все сохранившиеся сведения о мужском гомосексуализме в допетровской Руси, известный историк С.Соловьев писал – в викторианско-пуританском тоне, свойственном его эпохе: "Нигде, ни на Востоке, ни на Западе, не смотрели так легко, как в России, на этот гнусный, противоестественный грех".
Итак, в века, когда гомосексуалистов в Англии, Голландии, Испании и Германии казнили, пытали, жгли на кострах, во всех русских законодательствах от Русской Правды и до эпохи Петра Великого это явление не упоминалось и было безнаказанным.
Затишье, в котором прошло царствование первых Романовых, сменилось бурной эпохой Петра Великого. Царь-Преобразователь отличался широтой взглядов на интимные отношения: он чрезвычайно любил представительниц прекрасного пола, не брезгуя при этом и гомосексуальными контактами. Польский историк К. Валиптевский пишет не только об интимных отношениях Петра с Меншиковым, но и о некоем красивом мальчике, которого он содержал "для своего удовольствия", а также о "неистовых припадках похотливости" царя, во время которых "пол становился для него безразличным".
В отсутствие жены, Петр неизменно укладывал на ее место кого-нибудь из своих денщиков. "Если у бедняги бурчало в животе, царь вскакивал и немилосердно бил его", - пишет о царских забавах Валишевский. В 1722 году Петр поручил саксонскому художнику Данненгауеру запечатлеть одного такого сожителя в обнаженном виде.
В первый раз в истории России наказание за "противоестественный блуд" появилось в воинских артикулах Петра Первого. В 1706 г., в "Кратком артикуле" князя Меншикова, было введено сожжение на костре за "ненатуральное прелюбодеяние со скотиной", "муж с мужем" и "которые чинят блуд с ребятами". Однако царь Петр, в интенсивной половой жизни которого не отсутствовали черты бисексуальности, это наказание (взятое из шведского воинского статуса) вскоре смягчил. В воинском уставе Петра 1716 года уже не говорится о сожжении, только о телесном наказании и о "вечной ссылке" в случае применения насилия. По мнению дореволюционных специалистов, эти уложения петровского времени распространялись только на военных и не касались остального населения: "Если кто отрока осквернит или муж с мужем мужеложствуют, оные, яко в прежнем артикуле помянуто, имеют быть наказаны. Ежели насильством то учинено, тогда смертию или вечно на галеру ссылкою наказать".
nordxp.3dn.ru
Крепостные сооружения Древней Руси — WiKi
Крепостные сооружения Древней Руси — крепости, замки и городища, существовавшие в восточнославянских княжествах с момента зарождения Древнерусского государства в IX веке до Батыева нашествия. За время своего существования они преобразовались от небольших оград, защищавших поселения родов и племен, до мощных оборонительных сооружений в несколько линий, характерных для крупных городов.
Древнерусские укрепления в большинстве своем не дошли до нашего времени. Их исследования ведутся на основе археологических раскопок и по материалам письменных источников. В большинстве случаев укрепления строились на естественном возвышении, обычно на мысу при впадении одной реки в другую. При таком расположении крепости её строители также могли преследовать цель контроля устья важной водной артерии.
Стены как составные части укреплений имели различную конструкцию в зависимости от размера и важности укрепленного пункта. Стены укреплений усиливались башнями, которые в древнерусских летописях именуются «вежами». Их размещали над воротами либо в местах поворота стен. Обязательным элементом укрепления были ворота. Их количество зависело от размеров поселения.
Общая характеристика
Суздальский кремль.Древнерусские укрепления в большинстве своем не дошли до нашего времени. Их исследования ведутся на основе археологических раскопок и по материалам письменных источников[1]. М. Н. Тихомиров писал, что наличие укреплений в древнерусских городах было одной из их отличительных черт. Город прежде всего был укрепленным пунктом. Его центральная и укрепленная часть среди населения и именовалась «городом» или «детинцем». Большинство древнерусских городов в период до монгольского нашествия имели деревянные укрепления, хотя внутри них могли быть и каменные постройки — храмы и княжеские хоромы. При отсутствии огнестрельного оружия и нечастом применении осадных машин на Руси деревянные стены, как правило, служили достаточной защитой[2].
В большинстве случаев укрепления строились на естественном возвышении, обычно на мысу при впадении одной реки в другую[3]. Н. Н. Воронин писал, что при таком расположении крепости её строители также могли преследовать цель контроля устья важной водной артерии[4]. Возвышенное местоположение было одним из наиболее важных факторов для выбора места под укрепление. Данная причина прослеживается в расположении значительного количества крепостей, замков и городищ Древней Руси, среди которых Киев, Чернигов, Полоцк, Галич, Псков, Владимир-на-Клязьме и др. Также поэтому в славянских землях многие городские замки именовали «вышгородами». Кроме того, укрепления строили близ крутых оврагов или на небольших холмах, окруженных топкими трясинами и болотами. Расположенные в таких местах крепости как правило характеризуются высокими валами[5]. В северо-западных районах Руси укрепления зачастую возводили на холмах-останцах, в районах моренных всхолмлений[6].
В VIII—X вв. наиболее распространенным типом укреплений было мысовое. Их воздвигали в месте, которое было ограничено оврагами или находилось при слиянии двух рек. Сторона, не прикрытая рекой или оврагом, окапывалась рвом, а землю из него насыпали вдоль кромки рва, создавая таким образом вал[6].
Вплоть до второй половины X века городища восточных славян оставались достаточно примитивными, и в первую очередь опирались на естественные препятствия — склоны, овраги, либо искусственные рвы. Если поселение стояло на мысу, а его склоны были недостаточно крутыми, их искусственно подправляли, с середины высоты отрывая горизонтальную террасу, благодаря чему верхняя половина склона приобретала большую крутизну[7]. П. А. Раппопорт отмечал, что так как поселения восточных славян принадлежали небольшим общинам, а государственность в период VI—IX вв. только зарождалась, строительство мощных укреплений было практически невозможно[7].
В IX веке также получили распространение округлые в плане укрепления, расположенные не на мысах, а на коренных берегах водоемов. Однако их оборонительные системы не отличались большой мощностью. В этот период основной задачей укреплений было не дать неприятелю взять поселение «изъездом» — быстрым и неожиданным нападением[8]. Именно такой способ захвата укрепленных пунктов практиковали кочевники и литовские племена, которые не умели вести осад и с которыми часто воевали восточные славяне[7].
Н. К. Рерих, «Город строят» (1902).В отличие от большинства других древнерусских княжеств укрепления в Псковской и Новгородской землях частично строились из камня. Н. Н. Воронин писал, что это объясняется обилием известняка в этих районах и удобством его разработки. Также он предположил, что на характере укреплений псковских и новгородских крепостей могла сказаться угроза со стороны шведов, датчан и немецких крестоносцев, которые в отличие от печенегов и половцев, угрожавших южным русским княжествам, имели опыт штурма замков[9].
В X—XI вв. внешнеполитическая ситуация в Древней Руси обострилась. На западе ощущалось давление со стороны молодого польского государства, на юге все большую угрозу представляли печенеги. Эти процессы по времени совпали с ростом производительных возможностей Руси, стали воздвигаться феодальные замки, княжеские крепости и города-центры ремесленного производства, обладавшие более качественными и мощными системами укреплений[6].
В конце XI — начале XII вв. черты укрепленных пунктов получили также замки-усадьбы крупных землевладельцев и монастыри. Усадьбы, как правило, огораживались тыном, помимо него они могли иметь валы и башни. Многие монастыри также были укреплены, их защищали деревянные или каменные стены. В некоторых случаях монастырские укрепления, расположенные в городе, дополняли его оборонительную систему[10].
Среди городских ремесленников довольно рано выделились «городники» — специалисты по постройке городских укреплений. На оплату их работы и обновление укреплений население платило пошлину — «городное»[11]. Либо само участвовало в строительстве укреплений — «городном деле». Порой, князья могли освободить зависимых крестьян от повинностей в свою пользу, но обязанность чинить крепости сохранялась. Аналогичной была ситуация и в отношении горожан[6].
Строительство укреплений требовало больших усилий. По подсчетам П. А. Раппопорта, укрепления «города Ярослава» в Киеве строили около 1000 человек на протяжении пяти лет. Крепость Мстиславль (неподалеку от Юрьев-Польского) во Владимиро-Суздальском княжестве была воздвигнута примерно 180 рабочими за один строительный сезон[6].
Элементы крепостных сооружений
Валы и стены
Стены как составные части укреплений имели различную конструкцию в зависимости от размера и важности укрепленного пункта[4].
Наиболее простым вариантом был тын, вертикальный либо под некоторым наклоном. Он состоял из плотно пригнанных друг к другу заостренных бревен. Также вместо тына иногда использовалась стена, сделанная из горизонтальных бревен в стояках. Тын был довольно простым по своему устройству, его ставили в случае неожиданной опасности. Тыном также могли огораживаться военные лагеря. В летописях его именуют «огородом» либо «столпием»[12].
Более сложной конструкцией была стена из «городней» — поставленных рядом срубов, которые внутри засыпались землей[2]. Иногда такие срубы оставлялись пустыми и были приспособлены для жилья или хозяйственных нужд. Срубы, как правило, ставились вплотную друг к другу, но из-за выступавших концов бревен между ними оставался промежуток. Такая конструкция придавала валу прочность и определенную крутизну, предохраняла его от оползания. Срубы ставили в один, а иногда и в два или три ряда. Их использование в основании валов получило широкое распространение на Руси в XI—XIII вв.[13][3].
В начале XII столетия срубная конструкция была несколько улучшена: вместо стоящих рядом срубов использовалась сплошная линия. Бревна лицевых стенок рубились «внахлестку» в поперечные стенки, которые разделяли соседние помещения. Образованные таким образом помещения могли быть квадратной, прямоугольной или трапециевидной формы[13].
Поверх стены делался помост, огражденный с внешней стороны «заборолами» — бруствером. Иногда «заборолом» именовали и всю стену[2]. В них были устроены щели — «скважни», для стрельбы по осаждающим. При этом без постоянного надзора и обновления срубы, не связанные между собой, давали разную осадку, их стыки загнивали, и вся стена постепенно начинала ветшать[12]. Высота стен могла варьироваться, в некоторых случаях они были небольшими. В летописях сохранилось упоминание, что во время осады галичского города Ушицы Иваном Берладником смерды перескакивали через заборола, что, по мнению М. Н. Тихомирова было бы невозможно в случае высоких стен[5].
Перед валом и стеной сооружался ров. Между ним и основанием вала существовала горизонтальная площадка берега шириной около 1 метра. Она предохраняла основание вала от постепенного сползания в ров. В некоторых случаях передний край рва укреплялся частоколом, наклоненным во внешнюю сторону[13].
Башни
Стены укреплений усиливались башнями, которые в древнерусских летописях именуются «вежами». Их размещали над воротами либо в местах поворота стен[8]. В ряде случаев башни могли строиться на каменном фундаменте[3]. Зачастую они несколько выступали за линию стен, что позволяло держать под перекрестным обстрелом идущего на штурм неприятеля[14].
П. А. Раппопорт писал, что до XII вв. многие крепости имели минимальное количество башен. Как правило, была только надвратная башня. Остальные башни строились как смотровые вышки в возвышенной части укреплений[6].
Ворота
Золотые ворота Киева.Обязательным элементом укрепления были ворота. Их количество зависело от размеров поселения. Например, в Киеве было не менее четырёх ворот — Золотые, Жидовские (позднее Львовские), Лядские и Угорские. Во Владимире-на-Клязьме во время правления Андрея Боголюбского в городе имелось семь входных ворот: Волжские, Золотые, Иринины (или Оринины), Медяные, Серебряные, Ивановские и Торговые. В маленьких крепостях и замках, как правило, довольствовались одними воротами. Как писал М. Н. Тихомиров, значение ворот для города подчеркивается тем, что термин «отворити ворота» обозначал сдачу города[15].
Ворота, как правило, представляли собой проездную башню, от которой через ров шел мост. Напротив них на противоположном берегу близ рва ставились короткие бревна, вкопанные на близком друг от друга расстоянии, что затрудняло подход противника ко рву. Если в городе или крепости не было глубоких колодцев либо других источников воды, в основании стен делались небольшие «водяные» ворота, через которые носили воду[16].
Н. Н. Воронин так описывал Золотые ворота в Киеве[17]:
| Золотые ворота представляли собой две параллельных каменных стены, соединенные между собой сводом. На его верхней площадке, несомненно, имевшей оборонительное боевое назначение, находилась небольшая церковь Благовещения. Огромная высота арочного пролета, который было немыслимо закрыть воротами на всю вышину, заставляет предполагать внутри его дополнительную арку, к которой и примыкали воротные полотнища. Вероятно также, что в арках ворот на балке, закрепленных в боковых стенах, устраивался деревянный боевой настил, который позволял защищать подступ к воротам. Воротные полотнища были окованы вызолоченной медью, что, вероятно, и дало повод к их названию «золотыми». Насыпь вала примыкала непосредственно к боковым фасадам ворот. |
Осада и оборона укреплений
Взятие Владимира монголами. Миниатюра из русской летописи.Основным методом овладения крепостью в Древней Руси было внезапное нападение. Оно именовалось «изгоном» или «изъездом», стремительность атаки должна была захватить обороняющихся врасплох, не дать им времени организовать защиту укрепления. Однако если атака была отбита или ее считали заранее бесперспективной, тогда поселение подвергалось осаде. В древнерусских летописях ее именуют «облежанием»[6].
Осада города в Древней Руси представляла собой его длительную блокаду. Расчет делался на нехватку пищи и капитуляцию гарнизона. Осаждающие стремились изолировать его от внешнего мира, лишить источников воды, предотвратить возможные вылазки[10]. Оборонительная тактика довольно подробно описана в летописях в связи с монголо-татарским нашествием на Русь. Они же сообщают данные о методах осады, ставших новшеством для русских защитников крепостей, которые во многом повлияли на быстрое падение практически всех осажденных монголо-татарами городов[18].
Штурм крепости в Древней Руси, как правило, был связан со значительными людскими потерями. На него решались только если гарнизон был слаб или укрепления были недостаточно крепкими. Стенобитные машины («пороки») не были широко распространены, поэтому осаждающим приходилось форсировать ров и по приставным лестницам или валам штурмовать стены[18]. Защитники, в свою очередь, вели стрельбу из луков и самострелов по атакующим[6].
Если враг прорывался внутрь города либо крепости, защитники обороняли каждый дом, а опорными пунктами становились крупные сооружения, в том числе церкви[19].
На рубеже XII—XIII вв. пассивная осада все чаще уступает место штурму крепости. Рвы забрасывали вязанками хвороста, все большее распространение получали камнеметные машины[6].
Монголо-татарское нашествие прервало развитие древнерусской фортификации. Армия Батыя имела строгую тактику осады городов, которой подавляющее большинство русских крепостей и укреплений не смогли противостоять. Осаждая город, монголо-татары окружали его частоколом, чтобы прервать его связи с внешним миром и прикрыть своих стрелков. Камнеметные машины, располагавшиеся на предельной дистанции выстрела из лука, разрушали стены и ворота. Если не удавалось разрушить саму стену, они старались сбить брустверы, за которыми укрывались осажденные. Лишаясь прикрытия, те не могли стрелять по противнику, в то время как монгольские лучники, по свидетельству летописей, массово обстреливали именно этот участок укреплений, после чего в этом месте следовал штурм[6].
После монгольского нашествия в землях Северо-Восточной Руси строительство крепостей возобновилось в середине XIV века. В Среднем Поднепровье крепости вновь стали строиться только спустя несколько веков[6].
Примечания
- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 457.
- ↑ 1 2 3 Тихомиров, 1956, с. 233.
- ↑ 1 2 3 Оборонительные сооружения Древней Руси X—XIV вв.. Проверено 27 августа 2015.
- ↑ 1 2 История культуры Древней Руси, 1951, с. 450.
- ↑ 1 2 Тихомиров, 1956, с. 234.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Древнерусские крепости (рус.). Проверено 28 августа 2016.
- ↑ 1 2 3 Древние русские крепости, 1965, глава «Древнейший период».
- ↑ 1 2 Древняя Русь. Город, замок, село, 1985, с. 168.
- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 458.
- ↑ 1 2 История культуры Древней Руси, 1951, с. 465.
- ↑ Тихомиров, 1956, с. 241.
- ↑ 1 2 История культуры Древней Руси, 1951, с. 451.
- ↑ 1 2 3 Древняя Русь. Город, замок, село, 1985, с. 169.
- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 452.
- ↑ Тихомиров, 1956, с. 235.
- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 454.
- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 445.
- ↑ 1 2 История культуры Древней Руси, 1951, с. 466.
- ↑ История культуры Древней Руси, 1951, с. 470.
Литература
- Древняя Русь. Город, замок, село. — Москва: Наука, 1985. — 429 с.
- История культуры Древней Руси / Греков Б. Д., Артамонов М. И.. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1951. — 483 с.
- Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII—XV вв.. — Ленинград: Наука, 1966.
- Косточкин В. В. Крепостное зодчество Древней Руси. — Москва: Изобразительное искусство, 1969.
- Раппопорт П. А. Древние русские крепости. — Москва: Наука, 1965. — 87 с. — (Из истории мировой культуры).
- Тихомиров М. Н. Древнерусские города. — Москва: Государственное издательство политической литературы, 1956. — 477 с.
- Konstantin S. Nossov, Peter Dennis. Medieval Russian Fortress AD 862—1480. — Osprey Publishing, 2007. — 64 p.
Ссылки
ru-wiki.org
правовое положение населения древней Руси.
В Русской Правде содержится ряд норм, определяющих правовое положение отдельных групп населения. По ее тексту достаточно трудно разграничить правовой статус правящего слоя и остального населения. Мы находим лишь два юридических критерия, особо выделяющих эти группы в составе общества, — нормы о повышенной (двойной) уголовной ответственности за убийство представителя привилегированного слоя (ст.1 ПП) и нормы об особом порядке наследования
субъекты, поименованные в Русской Правде как князья, бояре, княжьи мужи, княжеские тиуны, огнищане. В этом перечне не все лица могут быть названы «феодалами», можно говорить лишь об их привилегиях, связанных с особым социальным статусом, приближенностью к княжескому двору и имущественным положением.
Основная масса населения разделялась на свободных и зависимых людей, существовали также промежуточные и переходные категории. Юридически и экономически независимыми группами были посадские люди и смерды-общинники (они уплачивали налоги и выполняли повинности только в пользу государства). Городское (посадское) население делилось на ряд социальных групп — боярство, духовенство, купечество, «низы» (ремесленники, мелкие торговцы, рабочие и пр.). Кроме свободных смердов, существовали и другие их категории, о которых Русская Правда упоминает как о зависимых людях. В литературе существует несколько точек зрения на правовое положение этой группы населения, однако следует помнить, что она не была однородной: наряду со свободными были и зависимые («крепостные») смерды, находившиеся в кабале и услужении у феодалов. Свободный смерд-общинник обладал определенным имуществом, которое он мог завещать детям (землю — только сыновьям). При отсутствии наследников его имущество переходило общине. Закон защищал личность и имущество смерда. За совершенные проступки и преступления, а также по обязательствам и договорам он нес личную и имущественную ответственность. В судебном процессе смерд выступал полноправным участником.
Более сложной юридической фигурой является закуп. Краткая редакция Русской Правды не упоминает закупа, зато в Пространной редакции помещен специальный Устав о закупах. Закуп — человек, работающий в хозяйстве феодала за «купу», т. е. заем, в который могли включаться разные ценности, — земля, скот, зерно, деньги и пр. Этот долг следовало отработать, причем установленных нормативов и эквивалентов не существовало. Объем работы определялся кредитором. Поэтому с нарастанием процентов на заем кабальная зависимость усиливалась и могла продолжаться долгое время
Холоп — наиболее бесправный субъект права. Его имущественное положение особое — все, чем он обладал, являлось собственностью господина. Все последствия, вытекающие из договоров и обязательств, которые заключал холоп (с ведома хозяина), также ложились на господина. Личность холопа как субъекта права фактически не защищалась законом. За его убийство взимался штраф, как за уничтожение имущества, либо господину передавался в качестве компенсации другой холоп. Самого холопа, совершившего преступление, следовало выдать потерпевшему (в более ранний период его можно было просто убить на месте преступления). Штрафную ответственность за холопа всегда нес господин. В судебном процессе холоп не мог выступать в качестве стороны (истца, ответчика, свидетеля). Ссылаясь на его показания в суде, свобод-
ный человек должен был оговориться, что ссылается на «слова холопа».
Закон регламентировал различные источники холопства. Русская Правда предусматривала следующие случаи: самопродажа в рабство (одного человека либо всей семьи), рождение от раба, женитьба на рабе, «ключничество» — поступление в услужение к господину, но без оговорки о сохранении статуса свободного человека. Источниками холопства были также совершение преступления (такое наказание, как «поток и разграбление», предусматривало выдачу преступника «головой», превращение в холопа), бегство закупа от господина, злостное банкротство (купец проигрывает или транжирит чужое имущество). Наиболее распространенным источником холопства, не упомянутым, однако, в Русской Правде, был плен.
В Правде обозначается двоякое деление общества, политическое и экономическое. Политически, по отношению к князю, лица делятся на два сословия, на людей служилых и неслужилых, на княжих мужей и людей, или простых людей. Первые лично служили князю, составляли его дружину, высшее привилегированное и военно-правительственное сословие, посредством которого князья правили своими княжествами, обороняли их от врагов; жизнь княжа мужа оберегалась двойною вирою. Люди, свободное простонародье, платили князю дань, образуя податные общества, городские и сельские. Трудно сказать. можно ли причислить к этим двум сословиям ещё третье, низшее – холопов…
Но рядом с этим политическим делением мы замечаем в Правде и другое - экономическое. Между государственными сословиями стали завязываться переходные слои. Так, в среде княжих мужей возникает класс частных привилегированных земельных собственников. В Русской Правдеэтот класс носит названиебояр. Бояре Правды не придворный чин, а класс привилегированных землевладельцев. Точно так же и среди людей, т. е. свободного неслужилого простонародья, именно в сельском населении, образуются два класса. Один из них составляли хлебопашцы, жившие на княжеской, т. е. государственной земле, не составлявшей ничьей частной собственности; в Русской Правде они называются смердами. Другой класс составляли сельские рабочие, селившиеся на землях частных собственников со ссудой от хозяев. Этот класс называется в Правде наймитами или ролейными закупами…
Политические сословия создавались князем, княжеской властью; экономические классы творились капиталом, имущественным неравенством людей. Таким образом, капитал является в Правде наряду с княжеской властью деятельной социальной силой, вводившей в политический состав общества своё особое общественное деление, которое должен был признать и княжеский закон. Капитал является в Правде то сотрудником, то соперником княжеского закона, как в летописи того времени городской капиталист - то сотрудник, то вечевой соперник князя-законодателя…
Мужи - в догосударственный и раннегосударственный период - свободные люди.
Градские люди - горожане. В свою очередь подразделялись на "лучших" или "вятших" (зажиточных) и "молодших" или "черных" (бедных). По роду занятий именовались "купцами" и "ремесленниками".
Смерды - свободные крестьяне-общинники, имевшие свое хозяйство и свою пашню.
Закупы - смерды, взявшие у другого землевладельца ссуду ("купу") скотом, зерном, орудиями труда и т. п. и должные отрабатывать на заимодавца до тех пор, пока не отдадут долг. Уйти до этого от хозяина они не имели права. Хозяин нес за закупа ответственность в случае совершения им кражи и т. п.
Рядовичи - смерды, заключившие с землевладельцем договор ("ряд") об условиях своей работы на него или пользования его землей и орудиями труда.
Изгои - люди, утратившие свой прежний социальный статус и не имеющие возможности вести самостоятельное хозяйство.
Прощенники - вольноотпущенные ("прощенные") холопы. Находились под покровительством церкви, жили на ее земле за повинности.
Холопы - категория феодально-зависимого населения, по правовому положению близкая к рабам. Изначально не имели собственного хозяйства и исполнявшие различные работы в хозяйстве феодалов. Источниками формирований этого сословия были: пленение, продажа за долги, брак с холопом или холопкой.
Дружинники - воины вооруженных отрядов князей, участвующие в войнах, управлении княжеством и личным хозяйством князя за денежное вознаграждение.
Бояре - представители высшего сословия феодалов на руси, потомки родо-племенной знати, крупные землевладельцы. Пользовались иммунитетом и правом отъезда к другим князьям.
Князья - вожди племен, позже - правители государства или государственных образований в рамках единого государства. Старшим князем в Древней Руси считался киевский князь, а остальные - удельными.
studfiles.net
Холоп – это раб на Руси
Когда говорится о рабстве и о рабах, то первая ассоциация, которая возникает, – это рабовладельческое общество в Древнем Риме и Греции. Сразу же перед глазами встают образы Спартака и других гладиаторов. Однако рабы были и на Руси, и это отнюдь не крепостные. Их своеобразно называли словом “холоп”. Это были люди, которые не имели абсолютно ничего. Поэтому им приходилось ради куска хлеба гнуть спину перед хозяином и выполнять все его прихоти. Такие взаимоотношения между господином и слугой-рабом были в феодальном обществе. Их хозяин мог бы “посадить” на землю, и тогда он превращался в крепостного крестьянина.

На Руси холоп – это либо взятый в плен солдат вражеской армии, либо человек, задолжавший большую сумму и не имеющий возможности расплатиться. Данный статус также приобретался после женитьбы или замужества с рабом. С 1722 года все холопы стали называться крепостными крестьянами. Это, в принципе, ничего не изменило в их жизни. Их могли продать, купить, подарить и т. д.
Холоп на Руси
Часть населения феодальной России с 10-го по 18-й век, не владевшего кровом и каким-либо имуществом и для поддержания своей жизни вынужденное выполнять любую работу в хозяйстве своего феодала, называлась холопами. Во время войн, особенно междоусобных, проводимых с целью присвоения чужого имущества и завоевания новых территорий, эти люди автоматически превращались в рабов. Пленные люди и скот рассматривались завоевателями как наиболее ценная добыча. У каждого землевладельца имелись огромные свободные территории, и для их возделывания, естественно, нужна была рабочая сила. Нею становились пленные. Т. е. на Руси считалось, что холоп - это в первую очередь бесплатная рабочая сила. Эти люди были вовлечены как в домашние, так и в земледельческие работы.

Права холопов на Руси
Данная часть населения находилась в полной зависимости от своих господ. Они не обладали самостоятельными юридическими правами. Тем не менее не все холопы находились в одинаковом положении. Некоторые из них назывались тяглыми крестьянами. То есть холоп – это человек, который на своих плечах несет всю тяжесть государства.

Положение холопа с юридической точки зрения
Он считался вещью, т. е. частной собственностью, как и остальное имущество: недвижимость, утварь, скот и др. Поэтому за его действия и поступки должен отвечать его хозяин. Однако в том случае, если холоп нанесет личную обиду свободному человеку, то в отместку обиженный может убить его. Холоп, ставший свидетелем какого-либо преступления, не мог быть призван в суд для дачи показаний. Хозяин мог убить его, однако если кто-то другой убивал раба, то платил его господину штраф.
В судебнике за 1550 год введены ограничения. Согласно им, сын раба, рожденный до приобретения отцом статуса холопа, считался свободным, и отец не имел права продать его в рабство. Если человек становился рабом в результате пленения и ему удавалось бежать из плена, то он снова приобретал свободу. Он также освобождался от холопства после смерти своего хозяина. А бывали и такие случаи, когда свободные люди, неспособные прокормить или защитить себя, добровольно переходили в рабство. В 17-м веке вышел указ, препятствующий этому.
fb.ru